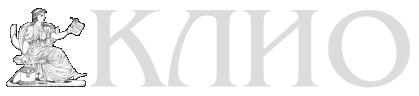Личные воспоминания участника Гражданской войны, красноармейца Сабира Шакирова

Автор: Н.В.Солнцев
Источник: Журнал «Вопросы истории», 2016, № 2
На фото: Обед красноармейцев у костра. 1919 г.
Фото иллюстративное
«Сабир»
Его звали Сабир. От других Сабиров его отличали не по фамилии, а по кличкам: «хромой», «безрукий», «одноглазый». Говорили, что он воевал на Гражданской. Больше ничего о нем не знали. О себе он не рассказывал. Друзей и знакомых не заводил. При встрече говорил мало, только по необходимости. Взгляд у него был серьезный, даже угрюмый. Поэтому он выглядел старше своих лет. За нелюдимость его никто в глаза не осуждал, но иногда, как бы между прочим, бросали упрек: «странный мужик, бирюк какой-то». Внешне он не выглядел как другие инвалиды — слабым и жалким. В нем было что-то пугающее и в тоже время привлекающее. Он напоминал мощный дуб, преждевременно сломленный бурей.
Единственным человеком, кому он доверял и с кем был откровенен, была его жена. Она любила и жалела его, как любящая мать последнего ребенка, с которым боялась расстаться. Ежедневно, утром и вечером, она совершала намаз и просила Аллаха за Сабира, забывая при этом сказать Всевышнему о себе.
Она старалась изо всех сил, чтобы он забыл свое прошлое. Сабир это понимал, но ничего не мог с собой поделать. Он плохо спал, вставал ночью и тихо уходил на крыльцо, долго курил. Подумав, она решила спрятать его револьвер в курятнике. Подальше от греха.
Сабир старался все делать сам. Упорно учился работать (мастерить, строгать, колоть и т.д.) одной рукой. И у него получалось. Он даже смог заменить оконные рамы и покрасил их. Зиму он проводил дома, занимался хозяйством, помогал жене. Летом уезжал в Казань.
Он торговал семечками на колхозном рынке. Снимал за небольшую плату пристройку к дому с крохотной печкой и плитой, железной кроватью, топчаном из досок и столиком. На потолке, на проволоке, висела тусклая лампочка. Включал он ее редко, только с наступлением полной темноты, когда ужинал или развязывал ремни, освобождаясь на ночь от деревянных протезов. Места было мало.
Я жил у Сабира и оказался там неслучайно. В 1943 г. я поступил в 9-ю спецшколу по настоянию отца. Жить было негде. Отец упросил Сабира приютить меня. Встретил он меня не как равноправного жильца, а как хозяин работника. Рассказал о моих обязанностях: за приготовленный обед (точнее ужин) я получал миску супа.
Для Сабира моя учеба не существовала вообще. Он и меня не замечал. Не обижал, но и ни в чем не помогал. Я не раз порывался спросить у него: почему он такой сердитый, как будто на всех в обиде.
Конечно, очень хотелось узнать, как он воевал, где его так сильно покалечило, как он оказался в нашем поселке, откуда он родом, есть ли у него родственники.
Однажды, во время нашего обеда-ужина, он сказал, что хотел бы «поговорить по душам». Начал он издалека. Рассказ его меня захватил. Я был ошеломлен, что живу с таким необыкновенным человеком.
Мне начало казаться, что рядом сидит другой Сабир. Мое уважение переросло в восхищение и удивление. Передаю его рассказ.
В Красную армию пошел в 1918-ом, добровольно, вместе с отцом, мне было немногим семнадцать. Направили в вятский батальон В.М. Азина (он формировал свою часть на Вятке), героя гражданской войны, легендарного Начдива 28-ой стрелковой дивизии. Участвовал в боях с белочехами и белогвардейцами за освобождение Казани, Сарапула, Ижевска и других населенных пунктов по Каме и Вятке. Под Сарапулом попал в плен.
Это случилось вот как. На окраине города белые отрезали левый фланг нашего полка. Не меньше роты, если не больше, оказалось в окружении. Мы поняли: плена не миновать. Отчаянно пытались вырваться.
Кольцо сжималось. Все отстреливались. Я тоже стрелял, но невпопад. Я не прицеливался, стрелял куда попало. Но в одно мгновение увидел бегущего прямо на меня солдата с винтовкой с примкнутым штыком. В эти секунды я ни о чем не думал, я растерялся, не владел собой. Не могу объяснить, но выстрелить в этого солдата я не смог. Как будто меня кто-то сдерживал, даже пальцы онемели, курок не мог нажать. Очень странно, что он меня не убил. Ведь мы были друг от друга в двух шагах, могли легко дотянуться штыками. Кто не бывал в такой ситуации, вряд ли меня поймет, но я после этого случая стал другим, совсем другим человеком. Для меня это было не «боевым крещением», как обычно говорят солдаты после первого боя, а вторым рождением. Во мне произошли какие-то изменения. Конечно, внешне я остался прежним, но мое сознание, мои взгляды стали другими, хотя может быть мне это просто показалось... После этого, первого в моей солдатской жизни сражения, я вместе с другими красноармейцами нашей роты оказался в плену.
Нас (человек 12—15) затолкали в трюм какого-то парохода и отправили по Каме. Ночь провели в трюме. На рассвете зашел прапорщик.
Приказал всем выйти на палубу. Когда все вышли, скомандовал: построиться в одну шеренгу вдоль борта. Всем связали руки за спину. Появился офицер. С ним были три солдата с винтовками и священник в рясе, с молитвенником в руке. Офицер спокойно объявил:
«По законам военного времени, как предатели Родины, вы сейчас будете расстреляны!» — и кивнул священнику.
Священник начал молитву. Вдруг, на полуслове, он покачнулся, обмяк и упал на палубу. Молитвенник выпал из рук и его унесло ветром.
Все это происходило в двух шагах от меня. Полы рясы попа оказались за бортом, зацепились за что-то, и тело священника быстро сползало с палубы. Я подбежал, наступил на рясу, священник крепко ухватился за мою ногу. Я старался удержаться сам и тянул его. Тут подбежали солдаты, оттащили батюшку от борта, помогли подняться. Затем он все-таки набрался сил и закончил молитву. Все молчали. Стояла гробовая тишина. Даже ветер притих. Беспричинное падение священника все восприняли как предзнаменование беды. Но все вышло наоборот. Происшествие с попом повлияло не только на наше настроение, но и на поведение офицера. Он стоял молча, задумчиво глядя под ноги. В это время к нему подошел священник, и они тихо о чем-то заговорили. Офицер позвал прапорщика и дал ему какие-то распоряжения.
Расстрел отменили. Всех оставили в живых, но сбросили с парохода в реку с завязанными руками. Меня освободили. Высадили на пристани города Елабуги. Как я позже узнал, мою судьбу решил священник.
Он упросил офицера отпустить меня с Богом: «Молод. Заблудился. Бог поможет найти правду». Проводил меня до трапа. Убедившись, что я вышел на берег, перекрестился и пошел к своим.
Я тоже отправился искать своих. Со дня моего пленения прошло более трех месяцев. На войне срок не малый. Я добрался до какого-то селения недалеко от реки Белая. Нашел штаб дивизии. На радостях хотел прорваться к начальству — я же вырвался из плена! Но не тут то было. Кругом все кипело. Все куда-то спешили, тащили оружие, ящики, коробки, узлы. Обратиться было не к кому. Подошел к красноармейцу, который стоял с винтовкой с примкнутым штыком у входа в какую-то палатку. Он меня даже не выслушал, сказав: «Ищи коменданта, он тебе найдет место. Здесь не болтайся».
Однако комендант со мной не беседовал, а допрашивал: где служил до плена, фамилия командира, когда и на каком месте окраины Сарапула был в окружении? Почему не вырвался из окружения, не сопротивлялся, не стрелял, а сдался? У него вызвал явное подозрение случай с попом. Особенно отношение попа ко мне. «Тут что-то не так!» — сказал он сердито. Я пытался объяснить, что спас ему жизнь. Комендант вспыхнул, вскочил со стула и закричал: «Сабир, неужели ты такой болван.
Политически отсталый, несознательный красноармеец? Может еще хуже — ты на стороне классового врага?! Мы сражаемся, льем рабочее-крестьянскую кровь в боях, а ты спасаешь отъявленного врага Советской власти, попа! Ты соображаешь: всех твоих товарищей утопили, а тебя освободили, даже на берег высадили. Как это понимать? Ладно. Разберемся. Сейчас некогда. Мы уходим. Пока будешь в хозвзводе».
Только спустя несколько лет я понял смысл тех событий. Тогда, в двадцатые годы, мне и в голову не приходило, с кем я воюю и за что. Спроси тогда у меня, кто такие красные и кто такие белые, чем они отличаются друг от друга и почему я решил идти против белых, а не против красных, ей Богу не знал бы, что сказать. Единственный ответ мой был бы тогда такой: я пошел воевать с отцом. Пошел бы он к белым, я без колебания был бы с ним. Попа я спас вовсе не как «классового врага», а просто как человека. Будь на его месте любой другой, я поступил бы также.
Через некоторое время, при встрече, на ходу, комендант сообщил мне печальную весть — в одном из уличных боев в Казани погиб мой отец. Очевидцы рассказывали: улицу он держал под пулеметным обстрелом, обеспечивая продвижение своих. Уложил из «Максима» десятки белочехов. В последний момент он остался один. Погиб второй номер. Одному вести огонь и заряжать было трудно, уходило время. В суете он не заметил, как сзади подкрался белочех и ударил его в спину кинжалом. Отец прошел с 28-ой стрелковой дивизией беспрерывными боями до Казани. Храбро сражался. Начдив Азин наградил его берестяной табакеркой с автографом (орденов тогда, видимо, еще не было).
Место захоронения отца, за Кремлем, у берега, найти не удалось. Поиски ничего не дали. Похоже, останки смыла и унесла Волга.
Об отце я упомянул здесь еще и потому, что героическая смерть и награждение его самим Азиным сыграли в моей жизни спасительную роль, выручали из беды.
В августе 1919 г. наша дивизия в составе 10-ой армии обороняла Саратов от Деникина. Я служил тогда в разведке. Выполняя задания, приходилось проникать в боевые порядки противника. Это было удобнее делать ночью. Но определить количество пушек, пулеметов и тл. было трудно. Плохая видимость. Поэтому мы иногда ходили в разведку днем. Однажды мы схитрили. Рядом с нами крестьяне из деревни (кажется, называлась Татищево) пасли скот. Уговорили их погнать скот в сторону расположения деникенцев. Мы (мой напарник Костя Смоляков и я) переоделись в их одежду и развернули стадо ближе к лесу.
Коровы разбрелись в разные стороны. Часовые подняли шум и начали стрелять в воздух. Мы тоже кричали на коров, дули в рожок, а сами загоняли их дальше в лес. Часовые угрожали: «Расстреляем сейчас всех ваших коров вместе с вами». Мы прочесали всю опушку, засекли линии траншей, окопы, посчитали орудия, пулеметные точки и т.д. Командир похвалил за ценные разведданные, за смекалку, но впредь «такие фокусы» (как он выразился) запретил категорически.
17 августа мы втроем ходили на ночную вылазку. Задача была опасная: достать языка, обязательно офицера. Мы знали расположение командного пункта белых. Однако нас постигла неудача. Не успели доползти до блиндажа, как ракеты осветили нас. Мы прижались к траве, затихли, почти не дышали. Только начали отползать, опять дали очередь. Что было дальше, я не помню. Очнулся в лазарете.
Помню также, как санитар на машине, в кузове грузовика, отвозил нас, тяжело раненых, в городскую больницу (или госпиталь). Со слов врачей, из их разговоров между собой я сделал вывод: положение мое плохое. Ко мне врачи заходили чаще, чем к остальным. Иногда группами, как на экскурсию. Однажды с моим постоянным врачом, Борисом Павловичем Турченко, пришли два доктора. Борис Павлович сказал, что они профессора Медицинского института, кардиологи.
Обменявшись какими-то непонятными мне словами, один из них сказал: «Вот что дружок. В моей практике такое встречается второй раз. Первый раз это было в декабре 1904 г., в Порт-Артуре. У матроса осколок японского снаряда застрял в голове, в черепной коробке, под левым ухом. Не добрался до мозга, левого полушария. Мы решили этот кусочек железа не трогать. Матрос оглох на левое ухо, но (Слава Богу!) остался жив. Переписываемся. Ему сейчас 27 лет. Женат. Растет дочь. Живет на Сахалине, в г. Холмске, с рыбаками.
У Вас не лучше. Рентген четко показывает: пуля в 7 мм от сердца. Она устроилась там, как в колыбельке: бьется сердце — ее укачивает. Ее не только удалять, но дышать на нее опасно. Оставили ее Вам на память. Но мне кажется, опасность больше в шейном ранении. Там задеты нервные окончания. Это может дать знать о себе в любое время. Будем надеяться на лучшее, а пока надо лечиться».
В госпитале я провалялся до поздней осени. Меня комиссовали.
Куда податься? Решил вернуться к своим. 28-ая стрелковая дивизия в составе 10-ой армии преследовала Деникина на Дону. В январе 1920 г. я добрался до штаба дивизии. Спрашивал, искал коменданта. Оказалось, что он давно уже не комендант, а начальник Политотдела дивизии. Напросился к нему. Он меня узнал. Рассказал ему о своих делах. Он понимал, сочувствовал, но сказал, что оставить на службе не имеет права.
Я просился на любую работу: охранником, конюхом, поваром... Он созвонился с каким-то товарищем (видимо, с начальником), представил меня по телефону, и сказал, что направит меня к нему, с конвертом.
Я должен был вернуться в Саратов, сопровождая в ВЧК белого офицера — штабс-капитана. В Саратове, к своему удивлению, я оказался у самого заместителя начальника ВЧК. Получив от меня конверт и прочитав написанное, он долго и подробно со мной беседовал.
Его интересовало все: от бабушки и дедушки до близких и дальних родственников. И, конечно, моя короткая, но непростая служба в Красной армии. «Ваше поведение в плену мне не нравится, — сказал он. — Это мы проверим. Нам срочно нужен начальник особой команды.
Надеюсь, Вы понимаете: война идет беспощадная, с использованием самых жестоких мер. Белые применяют против нас террор.
Мы ответили им красным террором. Это наше классовое правосудие, суровое, непреклонное, но необходимое. Так нас учат товарищи Ленин и Троцкий. Надо безжалостно уничтожать дворян, помещиков, чиновников, священников, офицеров. Вот этим мы и занимаемся. В Вашем подчинении будут самые преданные нам люди. Они приводят в исполнение приговоры Советской власти. Расстреливают врагов народа.
Это святое дело Революции. Вам поручается строго следить за исполнение этих приговоров. Подробности узнаете на месте. Идите в соседнюю комнату. Вас проинструктируют и сопроводят к месту».
Это злополучное место называлось Разбойщина. Кроме двухтрех нежилых строений там ничего не было. Возможно, они когда-то служили казармами для солдат. Теперь сюда доставляли приговоренных к расстрелу. Для их содержания никаких удобств не существовало.
В этом не было необходимости. Приговоренные больше суток не содержались — вечером или ночью их доставляли, на рассвете расстреливали.
Там я был не более трех месяцев, в феврале-апреле 1920 года.
Состав приговоренных был самым разнообразным: офицеры, священники, купцы, учителя и т.д. Попадались и женщины.
Моя задача заключалась в том, чтобы принять прибывшую партию, удостовериться в личности каждого, отобрать все документы и вещи, составить точный список, указав фамилии, имена и отчества, специальность и дату расстрела. Список удостоверялся моей личной подписью.
Где-то в первых числах апреля прибыла очередная партия приговоренных, 26 человек. Все штатские. Среди них было семь священников, все в рясах. Когда они построились, я начал перекличку. При этом я близко подходил к каждому. Случалось, некоторые еле произносили свое имя, плохо стояли на нонах (их при аресте били). В таком состоянии находился и один из священников. Я дважды переспрашивал его фамилию. Посмотрев ему в лицо, я узнал священника, который читал молитву нашим пленным перед казнью на пароходе и который помог мне освободиться из белого плена.
Придя в свою комнату, я не мог успокоиться, думал только о священнике. В списке он значился под фамилией Храповицкий. Я, как ответственный сотрудник ЧК, имел право с каждым поговорить, но вмешиваться в судебные дела мне было запрещено. Расстрел был назначен на пять часов утра. Около четырех я пригласил священника к себе в комнату. Предложил сесть, дал воды. Спросил: узнал ли он меня? «Узнал, но не поверил своим глазам», — сказал он. Не вникая в подробности, я ему предложил: соберитесь с силами, я дам Вам возможность бежать. Объяснил ему свой план. Он согласился.
На рассвете всех строем повели к месту казни. Шел сильный дождь. Видимость была плохая, но переносить время расстрела категорически запрещалось. Я обязан был присутствовать, давать команды, следить за точным исполнением порядка казни. На этот раз я нарушил установленный порядок — отстранил одного стрелка под видом его нетрезвости и сказал, что я сам расстреляю предназначенных ему пять человек.
Храповицкий (по нашему уговору) стоял на правом фланге, прямо на краю обрыва оврага, заросшего кустарником. Здесь проходила траншея (могильник). Я сделал выстрел из нагана в воздух. Храповицкий упал и свалился с обрыва в траншею. Я дал стрелкам команду, как только дождь утихнет, траншею засыпать, а сейчас — на завтрак.
Храповицкий благополучно спасся.
Здоровье мое ухудшалось на глазах. Раны давали о себе знать. Дважды я падал в обморок. Физическая и психологическая нагрузка была мне не по силам. Однако в ЧК попросили немного потерпеть — до подбора нового сотрудника на мое место. Но болезнь решила по-своему. Меня разбил паралич. Левая нога и рука полностью утратили свои двигательные функции. Левый глаз ослеп. Ногу и руку ампутировали. Одним словом, в 22 года я потерял все. Жить не хотелось. Не раз брался за наган (мне его оставили как награду за службу в ВЧК) и откладывал.
Единственным моим утешением было сидеть на базаре, около железнодорожного вокзала. Там я познакомился с одной женщиной, татаркой. Она торговала печеной картошкой, солеными огурцами, квашеной капустой. Часто меня угощала. Мы встречались там почти каждый день.
Однажды (это было поздней осенью) она предложила уехать к ее матери в поселок, недалеко от Казани. Я согласился. С тех пор, вот уже 24 года, живем в этом поселке. У нас двое детей: дочка и сынишка. Жена (зовут ее Рабига) занята огородом и детьми. Я зиму провожу с ними, летом работаю в Казани. Так и живем.
Наши беседы продолжались не один и не два вечера, но к главному, мне кажется, он подошел только в конце своего рассказа. Понимаю, сказал он, что я человек только наполовину — одна рука, одна нога, один глаз — но это меня не очень пугает. Как-нибудь проживу. Люди видят только мою инвалидность. Удивляются, почему я не оформляю пенсию, не лечусь в районной больнице. Упрекают: напрасно отказался работать в Заготзерно приемщиком. Они по-своему правы: «нормальный» инвалид должен бы поступить именно так. Все дело как раз в том, что я не обычный инвалид. Ведь никто, кроме жены (а теперь и тебя) не догадывается, кто я такой на самом деле. Я преступник перед людьми и перед Богом. Страшно даже подумать — я служил в ЧК начальником расстрельной команды. Клянусь Аллахом, я не расстрелял ни одного человека, но ведь я руководил казнью, требовал от пьяных красноармейцев стрелять в голову и без промаха. Я точно выполнял распоряжения комиссара. Боролся, как он требовал, с «классовым врагом». За три месяца мы закопали в окопах Разбойщины сто семь таких «врагов». Каждому из них (за пять минут до залпа) я смотрел в глаза, просил прощения взглядом.
После такой экзекуции не знал, что мне делать, как жить дальше и смогу ли я пережить казнь очередной партии. Задавал себе один и тот же вопрос: почему не отказался, когда узнал, куда меня направляют?
А может комиссар меня проверял после освобождения из плена? Это очень похоже на правду.
Не дает покоя и другая печаль. Храповицкого могли поймать в любое время. И что он скажет о своем «спасении»? Все нити непременно приведут к начальнику команды, представителю ЧК Шакирову. Ведь вся команда знает, как я отстранил стрелка, обвинив его в нетрезвости, хотя он был не больше пьян, чем другие. И решил стрелять сам, тогда как до этого ни разу не брался за свой наган. Короче все улики были против меня.
Может быть, такой исход был бы для меня самым счастливым концом, но Аллах решил, как видим, иначе: оставил меня жить в муках. Вот так, в постоянном страхе, живу я двадцать три года. Этот страх не покидал меня ни днем, ни ночью. Если даже ничего и не случится, я уже не смогу прожить оставшуюся жизнь. На моей совести 107 загубленных душ. Я даже не осмелюсь рассказать сыну и дочери о своей жизни. Это непростительный грех, что я завел детей.
Это была наша последняя беседа и последняя встреча. В августе 1944 г. мы расстались. Меня призвали в армию. Он остался в Казани.
Спустя двенадцать лет, летом 1956 г., я приехал в отпуск навестить родителей. На другой же день пошел к Сабиру. Зашел в хорошо знакомый мне бревенчатый дом. Дома, в огороде, я окликнул его дочь. К тому времени я уже знал, что Сабира нет в живых. Мы сели на аккуратно сложенные у сарая нагретые солнцем бревна от старой бани, и она тихо и неторопливо вспоминала о последних земных днях отца. Сабир в конце мая 1945 г. вернулся из города и больше туда не ездил ни разу. На здоровье не жаловался, но, несмотря на это, ничем не хотел заниматься. Со двора выходил очень редко.
Однажды, в начале осени 1952 г. (это было 27 сентября), как всегда, перед сном, он вышел покурить на крыльцо. На этот раз долго не возвращался. Мы всей семьей, втроем, пошли его искать. Обошли все соседние улицы. Через четыре дня, первого октября, отца обнаружили на кладбище. Наткнулись на тело совершенно случайно, во время похорон. Отец сидел как в глубоком сне, прислонившись спиной к стволу большой березы. На правом виске запеклось пятно крови. Револьвер лежал рядом, чуть в стороне. Похоронили его там же, у березы. Револьвер забрала милиция.
В 1953 г., в год смерти Сталина и берьевской амнистии, кажется, в начале в начале зимы, рано утром к нам постучался мужчина. Выглядел он лет на семьдесят. Его сопровождал мальчик лет 14—15, видимо внук. Старик представился знакомым Сабира по Гражданской войне. Он попросил проводить его на кладбище, к могиле Сабиржана (так он выразился).
Когда подошли к могиле, попросил нас оставить его одного. Мы отошли в сторону и видели, как он стоял, сняв шапку, у ног усопшего, затем с трудом опустился на колени и молился. Перед уходом он встал у изголовья Сабира, еще раз помолился, достал с груди, расстегнув пальто, маленький крестик на цепочке и бережно положил его на могилу. (На второй день мы решили забрать крестик домой. Он и сейчас висит на стенке у фото отца в форме красноармейца, рядом с дедом).
От нашего предложения проводить их до вокзала он отказался.
Мы тепло попрощались. Перед выходом из калитки, он остановился, перекрестил нас и наш дом. С тех пор мы с ним не виделись. Но однажды он дал о себе знать. Перед новым годом мы получили денежный перевод на сумму 275 рублей. Обратного адреса не было, стояла лишь фамилия — Храповиций.
Кстати, все актуальные публикации Клуба КЛИО теперь в WhatsApp и Telegram:
подписывайтесь и будете в курсе.
Поделитесь публикацией!
© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.